







По словам Федорова, главный ответ на технологические вызовы лежит не в еще одном модуле про ИИ, а в возвращении к человеку и собственной идентичности школы.
«Я думаю, что основной способ ответить на эти вызовы для нас, участников рынка образования, – это все-таки человечность как процесс. Суть – в возвращении людей к живой коммуникации и в попытке вспомнить нашу специализацию - специализацию самой школы и запросах той целевой аудитории, с которой мы работаем».
Не менее острый вызов - экономика и спрос на программы. Федоров открыто говорит о том, что особенно коснулось бизнес-школ за пределами тройки ведущих, а также о комментарии клиентов в прямых контактах с приемной комиссией.
«Спрос на программы МВА и ЕМВА устойчив этой осенью, мы в МИРБИС заметили и небольшой рост по сравнению с 2024 годом в части корпоративной активности. Это не удивительно, так как выбор делается в сторону флагманских школ МВА и адекватного соотношения цены/качества. Это первая тройка школ. Тем не менее мы все же наблюдаем некоторое комментарии о выборе приоритетов и о том, что предприниматели думают о своей экономике и личных рисках. "Может быть, куплю машину или что-то из недвижимости, потому что мы не понимаем, что будет в 2026 году". Этой дилемме выбора еще способствуют предложения на рынке бизнес-образования, которые, увы, по-прежнему кроме названия МВА по сути ничего в себе не несут, являясь иллюзией».
Экономические риски накладываются на демографические. По словам Федорова, бизнес-школы вышли на "демографическую яму" своей ключевой аудитории и одновременно столкнулись с беспрецедентным смешением поколений в аудитории.
«Наша целевая аудитория сейчас находится в демографической яме: это как раз 29–39 лет. Мы дожили до этого момента. И второе "замечательное", что с нами произошло, – это то, что в одной аудитории наконец-то встретились поколения X, Y и Z одновременно.
У нас на программах MBA немало молодых слушателей: им 27–29, у них свои уже довольно крупные бизнесы, они предприниматели с оборотами в миллионы рублей. И они говорят о том, что уже многое успели сделать до того, как пришли в бизнес-школу. Мы часто становимся для таких предпринимателей своего рода "департаментом развития" в рамках программы MBA. Многие из них в процессе обучения становятся драйверами, лидерами групп, и они подтверждают: да, им важно расти дальше. Но это огромный вызов для преподавателей – как перестраивать курс так, чтобы одновременно было полезно всем в этой смешанной аудитории. Как минимум, это заставило нас по-новому посмотреть на социальную динамику и роли внутри группы».
При всех форматах, которые бизнес-образование предлагает после пандемии, одна тенденция остается устойчивой: люди хотят учиться очно.
«И, конечно, мы видим устойчивую тенденцию: потребность в живом обучении. Это то, что мы, что называется, выделяем красным в последние годы. При всех разных форматах, запросах на разные формы занятий, разные способы подачи материала – живое общение по-прежнему номер один. Девяносто процентов поступающих говорят о том, что им важны не просто "виртуальный класс", а возможность заменить онлайн-лекцию живой встречей, чтобы в командах обсудить задачи, поссориться или договориться, посмотреть друг другу в глаза».
От разговора о форматах Федоров перешел к тому, без кого никакие форматы не работают, - преподавателям бизнес школ. Он признался, что внутри МИРБИС преподавательскую команду называют "краснокнижной".
«Преподаватели бизнес-образования – это “вид”, достойный занесения в Красную книгу. И мы сегодня уже начали об этом говорить. На наш взгляд, миграция преподавателей между школами – это не всегда плохо. Но при этом мы теряем ценность и целостность экосистемы наших школ. Я согласен с коллегами: те, кто приходят к нам из бизнеса и хотят преподавать, действительно обладают огромным практическим опытом. Но мотивация прийти в аудиторию за 5-7 тысяч рублей в час (это примерно средняя ставка преподавателя на программах MBA в России) не всегда выглядит для них убедительной.
В целом это большой вызов и для практиков, и для бизнес-школ, которые хотят видеть практиков в аудитории. Нужно искать такие формы и механики, чтобы коллеги из бизнеса приходили к нам, читали лекции, вели семинары, включались в проектную работу.
С другой стороны, у нас есть фантастические, сильные преподаватели, которые работают давно, – наша замечательная профессура, внутренняя команда. Но часть из них все дальше отдаляется от практики в пользу академической повестки, науки, а кто-то и просто в пользу привычного уклада. И многие из них не готовы разбираться, что сегодня происходит в реальном бизнесе.
Это вторая полярность, вторая крайняя точка, вокруг которой формируется наша экосистема. Здесь нужно очень много работать, потому что не хочется терять ни тех, ни других. Хочется, чтобы все они продолжали работать в аудиториях, но уже в новых форматах. Мы для себя сформулировали, что бизнес-школам, как мы говорили в рабочих группах, все-таки нужно формировать собственные команды – растить их внутри университетов и школ, чтобы был свой пул преподавателей».
Отдельный блок выступления Федоров посвятил партнерствам, бизнес моделям и маркетингу бизнес школ. По его словам, рынок бизнес образования сегодня не может развиваться в логике одиночных игроков.
«Наконец, еще одно решение. Мы много говорим о том, что сегодня есть рекордный запрос на партнерство между бизнес-школами и бизнес-школами при вузах. Я думаю, что партнерство – это сейчас один из ключевых факторов развития. Мы много говорим о практикоориентированности, но мне кажется, что уже пора перейти от "overview" к конкретным партнерским проектам: как мы их делаем, как делим ответственность, риски, доходы.
И это, наконец, должно вылиться в пересборку наших бизнес-моделей. мы должны всерьез задуматься о бизнес-модели бизнес-школы и ее устойчивости. О том, что нужно заняться хозяйством внутри, навести порядок и через управление собственной бизнес-школой показать пример: чему мы учим предпринимателей, то мы и делаем сами.
Мы прямо говорим о том, что в школе бизнеса МИРБИС бизнес заложен в ДНК. У нас нет государственной поддержки и поэтому мы очень хорошо понимаем, чем живут предприниматели, как они принимают решения по своим бизнесам, что для них значит конкуренция, вызовы, влияние политической и геоэкономической повестки.
Наша задача в этой ситуации – развивать маркетинг в отрасли. Это сто процентов наша зона ответственности. Кроме нас никто не расскажет рынку, какого уровня у нас бизнес-образование. Пока в коммуникациях мы немного разобщены, но со стороны маркетинга мы видим, как можно объединяться».

После завершения секции команда МИРБИС продолжила разговор с коллегами. Мы попросили прокомментировать роль искусственного интеллекта и модели развития самих бизнес школ.
Директора центра программ MBA Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Владимира Копцева мы спросили о том, не начинают ли нейросети давать решения лучше, чем эксперты бизнес школ.
«Честно говоря, это очень серьезный вопрос. Во-первых, нейросети тоже могут ошибаться. Но даже если представить будущее, в котором они перестанут ошибаться, остается фундаментальная проблема: работа начального уровня, так называемых джунов в разных областях, действительно может быть частично заменена. И тогда должны остаться люди, которые умеют работать с результатами этой первичной работы, сделанной AI-агентами, сетями или кем угодно, – если мы предполагаем, что к этому анализу будет доверие.
Но при этом умение думать никто не отменял, и этому все равно нужно учиться. Я по-прежнему убежден, что сначала надо уметь делать все руками, чтобы понимать, насколько качественно нейросеть выполнила работу. Вот этот цикл – "сначала разобраться самому, а потом довериться" – для меня принципиален. Сначала уметь думать и разбираться, а уже потом – доверять инструментам. В этом смысле нейросеть – это скорее ускоритель механической части работы, но не замена мышлению.
Дальше там еще очень много над чем можно подумать, если честно. Но если совсем сжать и упростить: человек, который думает, что он с помощью нейросети сделает себе бизнес-план и построит бизнес с оборотом 10 миллиардов, – вот так это не работает. У меня один из самых популярных курсов – по стартапам и венчурным инвестициям. Мы там каждый раз придумываем новые бизнес-идеи, стартапы. И если ребята генерируют эти идеи с помощью искусственного интеллекта, то почти всегда такая идея разваливается при первом же качественном обсуждении и глубокой проработке. Потому что хороший стартап собирается по-другому, не по тем принципам, по которым пока работает нейросеть. Если коротко – ИИ может помочь, но без человеческой головы и живой работы ничего не взлетит».
Первый заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Волков в своем докладе говорил о разных моделях деятельности бизнес школ, а после секции пояснил, почему так важно, чтобы каждая школа понимала, в какой модели живет.
«Существуют разные модели бизнес-школ, и важно, чтобы каждая школа осознавала, в рамках какой модели она живет и работает. При этом нужно понимать, что в разных ситуациях, на разных сегментах, в разных жизненных контекстах те или иные модели будут эффективны или, наоборот, неэффективны.
Если говорить о том, какая модель, на мой взгляд, самая эффективная, то мы для себя выбрали модель полноформатной университетской бизнес-школы. Но это только первый шаг – шаг осознания. Чтобы модель действительно была эффективной, необходимо иметь хорошую стратегию и видение, а также инструменты для реализации этой стратегии. Модель – это только рамка. Дальше важно понимать, как именно ты будешь ее реализовывать: какое у тебя видение, какие шаги ты предпринимаешь, чтобы этой цели достичь.
Если смотреть вперед – на год, пять, десять лет, – что будет с наборами на MBA? Они будут расти, снижаться или останутся на нынешнем уровне? На мой взгляд, программы MBA и особенно EMBA будут развиваться, при этом появятся разные форматы MBA и EMBA. Для нас сегмент EMBA – это однозначно растущий сегмент, который занимает и будет занимать свое место. Уже сейчас он занимает существенную долю, если говорить о доходах школы. И дальше эта доля, вместе с ростом общих доходов, будет только увеличиваться».
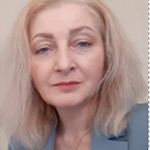









Мясников Николай Карпович

Туровцев Владимир Александрович
С 20 по 21 ноября в Высшей школе экономики прошел Форум ДПО 2025, который стал площадкой для разговора об экономике будущего и роли дополнительного профессионального образования. В секции «Бизнес-образование и подготовка кадров для экономики будущего. Бизнес-школы» выступил исполнительный директор Школы бизнеса МИРБИС Федор Федоров, обозначив главные вызовы для бизнес-школ и предложив свои ответы на вопрос, как им расти в условиях неопределенности.
В Москве прошли защиты выпускных квалификационных работ слушателей программы MBA «Стратегический менеджмент», которую Школа бизнеса МИРБИС уже 15 лет реализует совместно с Центром бизнес-образования в Екатеринбурге. Руководители и собственники уральских компаний представили реальные бизнес-проекты: от новой модели продаж промышленного холдинга до инклюзивного жилого комплекса и сервиса премиального ремонта вещей в премиальном сегменте.
15 ноября 2025 года во Всероссийской академии внешней торговли прошла ежегодная конференция организаторов и участников Президентской программы подготовки управленческих кадров. Площадка собрала свыше 300 представителей власти, бизнеса и образования, чтобы обсудить, как меняются запросы к управленческим компетенциям и каким должен быть курс на развитие российской экономики. От бизнес-школы МИРБИС на конференции присутствовал директор департамента повышения квалификации и профессиональной переподготовки Валерий Залко, который принял участие в обсуждениях и рабочих контактах с партнерами Президентской программы.
МИРБИС вошел в число 300 лучших бизнес-школ мира по версии международного рэнкинга Eduniversal, занял 1-е место среди российских бизнес-школ в лиге 4 Palmes of Excellence и стал 5-м среди бизнес-школ России.
12 ноября в Академии управления МВД России прошла международная научно-практическая конференция «Государственное управление в правоохранительной сфере». Владимир Туровцев, профессор бизнес-практики и руководитель программы «Стратегический менеджмент» Школы бизнеса МИРБИС, победитель конкурса «Лидеры России», представил доклад «Возможности использования в органах правопорядка лучших практик технологических компаний».